6 января 1932 года родился народный поэт Бурятии, лауреат Государственной премии России Николай Гармаевич Дамдинов. Статья «Как степью широкой, по жизни хочу пройти», посвященная творчеству Николая Гармаевича Дамдинова, написана Андреем Румянцевым для книги «Певцы родной земли».
Народный поэт Бурятии Андрей Румянцев
КАК СТЕПЬЮ ШИРОКОЙ,
ПО ЖИЗНИ ХОЧУ ПРОЙТИ...
Однажды в студенческие годы случилось мне летом приехать из родного таежного села в Улан-Удэ. Я отправился туда с охотой, потому что кроме поручения матери мечтал исполнить свою давнюю и тайную затею – побывать в редакции журнала "Байкал", показать там свои стихи. Помню, сухим, пыльным полднем, закончив главное дело, я подошел к деревянному, с купеческим размахом построенному зданию и остановился набраться духу. Вдруг дверь дома резко распахнулась, и на тротуар вывалилась молодая компания - несколько парней, которые, дурачась, подталкивали друг друга. Один из них, высокий, длинноногий, не мешкая, широко зашагал наискосок через улицу, ведя своих шумных товарищей, как байкальский буксир резвые лодки.
До того дня я не знал поэта Николая Дамдинова, но почему-то сразу предположил, что высокий - это он. Тут сыграло роль, наверно, то, что незадолго перед этим я прочел в журнале "Новый мир" небольшую поэму Николая Дамдинова "Песнь степей" в переводе Юрия Левитанского. Строки ее не могли не понравится. В широком распеве поэмы, в ее молодой энергии жила порывистая, нетерпеливая и многое задумавшая наперед душа:
Как степью широкой,
по жизни хочу пройти.
И чего это, собственно, так спешу
прошагать дорогой земною?
Я мог бы присесть на камень,
задержаться бы мог в пути -
И она бы
не уменьшалась передо мною.
Может, верно все это.
Но спешу я, пока не стар,
К солнцу, к солнцу,
на месте одном не стоящему.
Не хочу обманывать жизнь -
самый бесценный дар!
Пусть она честно пройдет
и завершится по-настоящему...
Тогда, на улан-удэнской улице, я не ошибся: шагавший впереди был Дамдинов.
* * *
После окончания университета я вернулся в Бурятию, начал работать в молодежной газете и вскоре познакомился со многими поэтами и прозаиками республики. Уже через полгода мы, молодые авторы, выпустили коллективный сборник стихов "Здравствуй, жизнь!" После этой публикации я стал чаще бывать в Союзе писателей, поближе узнал и Николая Дамдинова.
Мне всегда нравились его порывистость и энергия. Там, где другой долго обдумывал предстоящее дело, да и начав, вел его медленно, с постоянным оглядом назад и по сторонам, Дамдинов впрягался с ходу и двигался к цели без остановки. Кажется, такой характер называют сангвиническим.
Как-то он разыскал меня и быстро, в двух словах пояснил, зачем я ему понадобился. Оказалось, что в Улан-Удэ по командировке Союза писателей России приехали два поэта - Владимир Гордейчев и Николай Агеев. Это были его друзья. С Гордейчевым Дамдинов учился в Литературном институте, а с Агеевым сошелся в последние годы как с молодым писательским аппаратчиком.
Николай Гормаевич знал, что у меня и у моего приятеля Михаила Шиханова готовы рукописи первых книжек. Их затяжной и непредсказуемый путь к публикации он хорошо представлял. Вначале рукописи будут долго лежать в издательстве, затем оно закажет какому-нибудь поэту или критику "закрытые" рецензии, а то и пошлет для оценки в Москву, потом, если все сложится для авторов удачно, будущие сборники поставят в план выпуска - и протянется эта канитель долгие месяцы, а иногда и годы. А вот если рецензии на наши рукописи напишут московские поэты, то путь к печатному станку может сократиться.
- Разыщи Мишу, - торопливо попросил Дамдинов, - и завтра приходите со
стихами в гостиницу.
К назначенному времени мы были в гостиничном номере. Чтение началось сразу - дамдиновский запал в таких случаях не затухал, - рецензии писались тут же, и вскоре мы с Мишей ушли, довольные добрыми отзывами. Уверен, что они сыграли свою роль: уже через год наши книжки вышли под общей суперобложкой, в модной тогда форме "кассеты".
Теперь осознаешь: а ведь в то время Николаю Гармаевичу было только тридцать три года. Он сам был во власти многих замыслов. Написав такие чудесные стихотворения, как "Табунщик Дугар", "Ночь тридцатой весны", "На этой, стремящейся к воле, планете...", создав обжигавшую личной трагедией поэму "Имя отца", Дамдинов трудился тогда истово над поэмой о фольклорном богатыре Шилдэе Занги, над драмой в стихах о первом бурятском ученом Доржи Банзарове, над новыми лирическими стихами. До других ли поэтов тут?
Но в том-то и дело, что помогать другим, подзадоривать их на творческое состязание было в характере этого живого, порывистого человека. Его самого обласкали когда-то Александр Твардовский и бурятский классик Хоца Намсараев; их сердечность стала для Дамдинова нравственным уроком, который определил и его собственное отношение к молодым сотоварищам.
Читатели могут убедиться в этом, к примеру, по предисловию к книге стихов
"Стреноженные молнии" одаренного и рано умершего Намжила Нимбуева. Дамдинов первым поддержал его. Опубликовал с напутственным словом его
стихи в газете, а после кончины двадцатитрехлетнего поэта составил его сборник для московского издательства "Современник".
Там, где другие могли с излишней придирчивостью обсуждать неудачные
строки начинающих авторов, Николай Гармаевич с мудрой снисходительностью искал достоинства и укреплял веру юных поэтов в свои силы. На заседаниях ли, когда в кабинете Дамдинова собиралось правление Союза писателей республики, на конференциях ли, где работа творческой организации оказывалась на виду общественности, на литературных ли вечерах он с неизменной теплотой говорил о поэтической поросли. Когда определялась очередность публикации в журнале "Байкал" или в местном издательстве, для Дамдинова были безусловно равны автор обстрелянный и литератор начинающий...
Но я заговорил о его порывистом и неоглядно смелом характере. Еще большее впечатление произвел на меня в те ранние годы другой поступок
Николая Гармаевича. Это случилось в одном из районов Бурятии, где
проходил праздник литературы и искусства. Осенью из Улан-Удэ приехали сюда чуть ли не полным составом коллективы трех театров, артисты филармонии, большие группы писателей, художников и композиторов.
Целую неделю, днем и вечером, шли в сельских клубах спектакли, звучали песни и стихи, гремели пляски и танцы. В этом районе я работал тогда редактором газеты, и райком приписал меня к писательской группе.
В один из вечеров мы должны были выступать в Доме культуры большого села. Люди собрались задолго до начала встречи, зал шумел, как рынок в
воскресный день. Но писатели стояли у крыльца, под высокими тополями, и
любовались на погоду: октябрь напоминал в тот год теплое бабье лето. Ждали первого секретаря райкома, "хозяина", который пожелал послушать писателей.
А возглавлял их группу Николай Дамдинов. Он взглянул на часы; они показывали объявленный час, может быть, две-три минуты следующего.
- Пошли, - скомандовал Дамдинов, и писатели боязливо двинулись за ним в
зал. Пройдя сквозь строй аплодирующих людей, стоящих в проходе, Николай
Гармаевич жестом усадил публику, дождался, когда разместится за столом
на сцене его дружина, и начал разговор. Минут через десять появился "хозяин".
Он был явно недоволен, даже ошеломлен коварством гостей, но прилюдно на
скандал не решился. Сел на стул, услужливо вынесенный кем-то и поставленный у краешка стола, потерянно молчал. Буря грянула наутро.
Партийный секретарь расчехвостил руководителей села, своих, райкомовских,
подчиненных, пожаловался даже в обком. Не знаю, пострадал ли "за самоуправство" поэт, но поступок его запомнился жителям села. Долго судачили о нем с цоканьем языками, как о происшествии неслыханном и
невиданном доселе...
* * *
Впрочем, для молодого Дамдинова это были шалости. Его подлинная смелость, писательская и гражданская, проявилась в другом. В начале шестидесятых годов в стране впервые тревожно заговорили об экологической угрозе, нависшей над озером Байкал. Зачинщиком разговора стал Михаил Шолохов. В 1961 году с трибуны партийного съезда он безбоязненно сказал предупреждающие слова о том, к чему может привести строительство целлюлозных комбинатов на берегу сибирского моря. Эти слова были услышаны народом; никто из всесильных правителей не посмел, ни тайно, ни явно, одернуть Михаила Александровича. Но то, что было позволительно писателю с мировым именем, не прощали литератору молодому.
А именно Николай Дамдинов в 1965 году продолжил опасную тему, выступая на писательском съезде в Москве. Он сказал тогда: "...целлюлозники и работники Совнархоза вплотную подобрались к "священному морю" и готовятся начать сброс ядовитых отходов в Байкал... Если попустительство целлюлозникам продолжится, то Байкал в недалеком будущем превратится в мертвый памятник нашей близорукости".
На первом же большом сборе начальников в Улан-Удэ, где среди журналистов присутствовал и я, главный обкомовский секретарь возмущался "необдуманной" речью Дамдинова в столице:
- Мы гордимся, что на территории республики возводится гигант лесохимии -
Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, а товарищ Дамдинов против
комбината. Он хочет видеть Бурятию отсталой, сельскохозяйственной, а не процветающей, индустриальной.
Это говорил не какой-то там функционер средней руки, а властелин республики, член ЦК. Он мог скрутить в бараний рог любого, живущего рядом, защиты от него не было. Но поэт не побоялся его тяжелой длани.
Вскоре на другом похожем совещании Николай Гармаевич опять оказался крамольником. Выступая, он попытался убедить плохо понимающий его зал, что в каждой бурятской школе нужно преподавать родной язык. Иначе очень скоро земляки разучатся говорить и читать по-бурятски. "Уже сегодня, - напоминал Дамдинов, - тиражи газет и книг на бурятском языке сократились до опасного минимума, у местного радио и телевидения не остается слушателей. Забудем родное слово - и умрет национальный театр, литература, сама письменность".
На это "хозяин", раздраженно недоумевая, ответил Дамдинову:
- Неужели вы против того, чтобы бурятские дети поступали в лучшие московские и ленинградские вузы? Для этого, как известно, нужно хорошо знать русский, а не бурятский язык, К сожалению, в бурятском языке нет слова "синхрофазотрон"...
* * *
У него была милая привычка: переходить в разговоре на шепот. Словно речь шла не о житейских или литературных делах, а о заговоре против власти.
Вернувшись из Пятигорска, я рассказал ему о впечатлении, которое оставили место дуэли Лермонтова и его последняя квартира на двоих с Алексеем Столыпиным.
- А знаешь, что могло стоять за убийством Лермонтова? - спросил Дамдинов, понизив голос. И уже шепотом, выразительно меняя интонацию, то едва слышно, то четко произнося важное слово, принялся рассказывать о тайных мотивах поведения Мартынова и секундантов, многих других лиц, причастных к дуэли. В таких случаях я, слушая поэта, поначалу удивлялся его таинственному шепоту, но через минуту забывал о странной форме беседы и удивлялся уже дамдиновскому знанию подробностей, его памяти, занимательности его рассказа. Особо блистал он, когда речь заходила о судьбе Пушкина или о судьбах декабристов. Казалось, он знал любую подробность пушкинской жизни, любой зигзаг в бедственной участи декабристов – факты не только широко известные, но и редко называемые историками литературы.
Правда, эти знания Дамдинова можно было объяснить тем, что он написал драму в стихах о братьях Михаиле и Николае Бестужевых, поэму о выдающемся бурятском ученом девятнадцатого века Доржи Банзарове. Работа над этими произведениями потребовала от него скрупулезного изучения архивных материалов, документов эпохи, опубликованных в редких изданиях. И потому не стоило удивляться, что Дамдинов знает о времени своих героев намного больше, чем другие. Но, бывало ( и часто), что он удивлял своей осведомленностью о том, что вроде бы не особенно должно занимать его.
Как-то, получив по подписке шеститомник Генриха Гейне, творчество которого полюбилось со студенческих лет, я прочитал пропущенную мной в юности его книгу "Путевые картины", образец прозы, отлично сочетающей сатиру и лирику. Гейне рассказывает о своем путешествии по княжествам раздробленной Германии, а также по Италии и Англии. Меня удивило открытие: поездка, для европейца почти "домашняя", дала немецкому поэту материал для таких размышлений о социальной, политической, духовной жизни континента, о национальных культурах, философии, религии, что диву даешься. Оказывается, оригинальные и глубокие суждения приходят к гению не потому, что он полон внешних впечатлений, а потому, что он смотрит на вещи особенным взглядом. Едва я завел разговор об этом, как Николай Гармаевич подхватил его, словно он тоже только вчера закончил чтение записок великого немца. Припомнив эпизоды из текста "Путевых картин", Дамдинов закончил характерным шепотом:
- Сейчас иной путешественник объездит чуть ли не весь мир, а возьмется рассказывать или писать, умных наблюдений - с воробьиный нос. Разве что повторит избитую историю Эйфелевой башни или Бруклинского моста.
* * *
Весной 1979 года Николай Дамдинов передал мне подстрочник своего венка сонетов "Звездный путь" и попросил перевести на русский язык. Предложение было неожиданным. Дело даже не в том, что Дамдинов имел немало московских переводчиков. К этому времени я уже знал, что он постоянно стремится к тому, чтобы его стихи на русском языке звучали свежо, и искал новых переводчиков. Ему нравилось, что живущие рядом с ним переводчики уточняли в оригинале значение каждого слова, не позволяли себе искажать или вольно передавать особенности бурятского быта, национальных традиций. Неожиданным предложение было потому, что венок сонетов - форма труднейшая; я и сам не знал, смогу ли сделать хороший перевод.
- Собственно, форма-то каноническая, - сказал Николай Гармаевич. - Важно,
чтобы стих в классическом размере был не вялым и банальным, а афористичным, образным и современным.
Венок сонетов впервые входил в бурятскую поэзию, и я понимал волнение Дамдинова. Пришлось многое прочитать и немало времени посидеть над подстрочником...
Вскоре я заболел и первые наброски перевода сделал в больнице. Николай Гармаевич живо, даже нетерпеливо, интересовался моей работой, и едва я сообщил, что первые сонеты переведены, приехал ко мне.
Была весна, мы, захватив листки, прохаживались в рощице, примыкавшей к
зданию больницы. Я читал вслух на ходу. Дамдинов то и дело просил повторить строфу или строку, сам произносил слова, точно пробуя их на зуб. Еще раньше, из прежних разговоров, я вынес впечатление, что он хорошо знает возможности русского языка, тонко чувствует оттенки слова. И на этот раз вместо некоторых слов он пытался найти более емкие, точные, выразительные. Мгновенно реагировал на удачные строки.
Чтобы читатели лучше представили, с какими требованиями поэт подходил к переводам, выпишу несколько строк из его статьи "Как реки в океан", написанной еще в молодости: "Беда многих переводов в том и заключается, что переводчики, стараясь дословно передать подстрочный текст на русском языке, забывают одно важное обстоятельство: перевод должен прозвучать как художественное произведение... Я за эквивалентность оригинала и перевода, за то, чтобы по мастерству, образной системе, ритму перевод являл собой равнозначную с оригиналом поэтическую ценность".
Конечно, вдвоем, во время обсуждения на ходу, можно было улучшить лишь отдельные строки, заменить некоторые слова. А доработать написанное и закончить весь перевод я мог лишь в одиночку, учитывая замечания и советы автора. Дамдинов это понимал.
Мы встречались в те весенние дни несколько раз. После выхода из больницы врач приказал мне дней пять-шесть посидеть дома. Тишина и уют домашней комнаты помогли в эту неполную неделю перевести последние сонеты венка, отшлифовать то, что получилось раньше.
Перевод Дамдинову понравился. Он напечатал его в последнем, декабрьском номере газеты "Литературная Россия" за 1979 год, включил в двухтомное собрание избранных произведений, вышедшее в Москве в 1981 году. Тогда же с просьбой дать венок сонетов для публикации к поэту обратилась редакция журнала, выходившего в Москве на основных европейских языках. Прошло какое-то время, и в этом издании появились переводы (с русского текста) нескольких начальных сонетов. Николай Гармаевич позвонил мне и с шутливой радостью сказал: "Я получил журнал со "звездными" стихами. Тебе какой подарить: на немецком, французском, испанском языках?.."
Хотелось бы заметить, что венок сонетов "Звездный путь", как всякое произведение настоящего поэта, - плод долгих раздумий, итог многолетнего накопления чувств. Уже позже, прочитав во втором томе собрания сочинении Дамдинова его статьи, я нашел в них любопытные переклички со строками "Звездного пути".
"Мы говорим о "расширяющейся" вселенной, - писал Николай Гармаевич в 1964 году, - темными звездными ночами простаиваем с непокрытой головой под вечной аркой Млечного пути и в немом удивлении и восхищении вглядываемся в просторы космоса".
Вот как это признание воплотилось в поэтических строках:
Я думаю о звездах в тишине.
И странно мне припомнить, что когда-то
Молились небу темные буряты,
Со страхом лица обратив к луне.
Давно ли мгла в родимой стороне
Ползла, как тень шаманского халата,
И вот она исчезла без возврата
В Октябрьском очистительном огне.
Для нас луна - порог родного дома.
К далеким звездам устремляет бег,
Пространство раздвигая, человек -
Ему дорога в небеса знакома.
Летит мой разум к звездам в вышине -
Мир дальних звезд волнует душу мне.
Или еще одно совпадение, по-человечески такое понятное. Из статьи 1973 года: "Поздней ночью склоняюсь над листом бумаги. Пишу... И, как всегда,
радостно сознавать, что почти рядом мерно бьется сильное, здоровое сердце
Байкала". В "Звездном пути" это чувство выражено похоже:
Меня к сонету привела не мода.
В родном стихе я прорубаю след
Для новой формы, и байкальский свет,
Как строгий друг, весь день стоит у входа.
* * *
Работать он любил, конечно, в уединении, в тишине. Но ему нравилось быть и в компании близких по духу людей, нравились шум, разговоры, смех. Как в давние дни, когда он вел через улицу ватагу своих друзей, Николай Гармаевич и в зрелые годы любил увлечь молодых писателей на поэтический праздник в село, на встречу с читателями в какую-нибудь дальнюю библиотеку, в поездку к строителям железнодорожной магистрали. Вести живой разговор, представлять публике литературных новобранцев - тут ровней ему были немногие. Помню пушкинский вечер в театре оперы и балета республики, выступления поэтов Бурятии в одном из московских кинотеатров, в сборочном цехе ЗИЛа, на фабрике в Мытищах, в палаточном клубе на строительстве БАМа... Везде непредсказуемым и прихотливым течением беседы с любителями стихов управлял Дамдинов.
Собственные стихи он читал без рисовки и крика. Многие считали его поэтом, склонным к философской лирике. Возможно, опираясь на бурятскую фольклорную традицию, опыт мудрых улигершинов, неторопливо и раздумчиво открывавших в своих сказаниях тайны земной жизни, Николай Гармаевич и стремился вести эту поэтическую линию. Но для чтения перед публикой он, сколько помню, всегда выбирал свои лирические стихи - о любви, например. Стихотворение, строки из которого приведу сейчас, я многократно слышал из уст автора до того, как прочитал в книге:
...И нынче я только тебя называю
Единственной в мире.
О как ты светла!
Я утро далекое не забываю,
Когда ты ко мне,
улыбаясь, вошла.
Вошла,
как цветы луговые весною,
Расцветшая - прямо в объятья мои,
И в это мгновенье
во мне, надо мною
Светло прозвенели оковы любви!..
В чудесное лето
без лишнего слова
Я отдал свободу, когда полюбил:
На сердце надел добровольно оковы,
К ним губы прижал
и слезой их омыл...
Упомянутое стихотворение ("На этой, стремящейся к воле, планете..."), как и многие другие: "Нескладным подростком шестнадцати лет...", "Детство осталось дальше...", "Звонки отшумели...". "Счастлив в жизни, кому не случалось...", "Река течет", "Может, здесь не увидишь резона...", "Стихи в честь богини, дарующей удачу", "Самолет от земли оторвался...", Николай Гармаевич посвятил своей жене Александре Мужановне. Посмотрев на обозначенные в книгах годы создания стихов, читатели убедятся, что всю жизнь, с юности до кончины, поэт обращал к ней слова любви и благодарности. Он нашел для своего чувства и для своей верной подруги две чудесных поэтических метафоры: "оковы любви", которые добровольно одел, прижал к губам и омыл слезой, и "богиня, дарующая удачу".
Они были редкой парой. Александра Мужановна, быстроглазая, всегда оживленная, в чем-то совпадала характером с мужем. Но в серьезном разговоре, который затевался при ней писательской или иной компанией, она внимательно слушала других, иногда добавляла или возражала, но никогда не стремилась "высказаться", привлечь внимание к своему мнению. Точно так же вела себя Александра Мужановна и в домашнем кругу. Она принадлежала к тому типу бурятских (или говорят: восточных) женщин, которые оставляют за мужчинами право первыми начать важный разговор, излить горечь, возмущение, радость, восторг. У таких собеседниц есть свои соображения, но они словно бы приберегают слова для того, чтобы разделить или погасить чужое возмущение, утишить боль, понять радость. Их обаяние - в материнской проницательности и уме, в материнском знании и сочувствии. Александра Мужановна заслужила каждое сокровенное признание своего поэта:
Моя милая, нет тебя лучше,
Ты мое озаряешь житье,
И любовь твоя - солнечный лучик -
Все земное богатство мое.
...............................................
И послушный сердечному долгу,
Я спешу в пролетающей мгле,
Чтоб тебя в ожидании долгом
Не оставить одну на земле.
С такими парами судьба поступает одинаково: когда уходит из жизни один, не выносит сиротства другой.
Я приехал в Улан-Удэ и пришел к Дамдиновым, когда Александра Мужановна была уже тяжело больна. Минутами раньше приходил врач, который сделал укол, и она заснула. Николай Гармаевич выглядел страдальчески притихшим и утомленным, осунувшимся. В последние годы его угнетало не только нездоровье жены и собственные недуги, но и сама российская жизнь. Многие московские поэты, переводившие его стихи или просто общавшиеся с ним, приспособились к новым порядкам, разом сменили старые одежды на модные "демократические" и с прежним рвением проклинали то, что раньше славили. Рядом тоже оказалось немало оборотней. Иные из сидевших когда-то в зале, которых Дамдинов безуспешно убеждал не забывать о родном языке, теперь вдруг стали печатно утверждать, что советская власть мешала им развивать национальную культуру.
Шабаши, которые устраивали в девяностых годах люди такого сорта, происходил не только на родине Дамдинова, но и во многих автономных республиках и округах России. Участвовали в нем и писатели, которым прежняя власть создала имя, печатая их произведения огромными тиражами, продвигая в председатели и секретари творческих организаций, объявляя их "основоположниками" или "классиками" национальных литератур. Песня у этого хора была одна: плохо, плохо общая держава заботилась о "малых народах", довела их "тоталитарная система" до вымирания.
Дамдинов хорошо знал историю своего народа; недаром он написал несколько поэм о прошлом своего края, в том числе, о событиях, происходивших здесь в двадцатом веке. Думаю, когда он проходил по улицам Улан-Удэ или отправлялся в любой район республики, каждый камень, родник в степи, вековая лиственница на обочине таежной трассы рассказывали ему то, что опровергало лжецов. Он знал, как в тридцатых годах открывались в этой глухомани учебные заведения, готовившие драматических артистов, музыкантов, танцоров. Как приезжали тогда в его республику деятели русского искусства, чтобы найти по улусам талантливых бурятских юношей и девушек и подготовить из них будущих звезд для академических театров оперы и балета, национальной драмы. "Звезд" не в том значении, что подразумевают нынешние говоруны, а в подлинном: звезд, которые украсили искусство Бурятии. Не стоило далеко ходить. Родной для Дамдинова Баргузинский район отделяли от города, от железной дороги четыреста малопроезжих верст. Но и в этой глуши отыскались таланты. Народные артисты России, редкой красоты бас Бадма Балдаков и тенора Саян Раднаев и Владимир Буруев составили славу своего оперного театра, труппа которого многократно объехала с гастролями прежнюю страну - от Днепра до Тихого океана.
Да и биография самого поэта могла стать главой в поучительной и правдивой книге. Его отец, председатель колхоза, был репрессирован, мать осталась с тремя детьми. Старший брат Дамдинова ушел на фронт, сражался, как настоящий бурятский батор, и сложил голову в сорок третьем в Калининской области. Колю, сына "врага народа", отправили в столицу республики, в школу-интернат, где на попечении государства жили и учились после войны наиболее одаренные бурятские дети. Мальчишка из баргузинского улуса закончил с золотой медалью школу и поехал в Москву, в Литературный институт ( для нынешней разрушенной, полуголодной России это фантастика: мальчик-сирота, не имевший богатых родственников, сел в поезд и поехал учиться в единственный на свете "писательский" вуз, где высочайший конкурс - и ничего, все у него получилось, как тогда же получилось у его товарищей Цыденжапа Жимбиева, Солбона Ангабаева, Дондока Улзытуева, учившихся там.
Вскоре после окончания института Дамдинов, автор громких столичных публикаций, становится руководителем Союза писателей Бурятии. Эрудиция, общественный темперамент, гражданская смелость быстро делают его не просто заметной, а яркой фигурой в интеллектуальной жизни края. Хотя Дамдинов доставляет главным чиновникам республики немало неприятных минут, они не могут умалить его известности. Николай Гармаевич становится депутатом Верховного Совета СССР, получает Государственную премию России. Фигура для парадных смотров? Нет. Не менее яркие судьбы сложились у многих собратьев Дамдинова по искусству: у художественного руководителя театра оперы и балета, лауреата Государственной премии СССР Гомбо Цыденжапова, народных артистов Союза, певцов Лхасарана Линховоина, Кима Базарсадаева, Галины Шойдогбаевой, Дугаржапа Дашиева, балерины, народной артистки страны Ларисы Сахьяновой, композитора, народного артиста СССР и лауреата Государственной премии России Бау Ямпилова, народного художника России и члена Академии художеств Дашинимы Дугарова...
Впрочем, я говорю все это словно бы за Дамдинова, а в том нет нужды. Поэт сам рассказал и о своей жизни, и о своих друзьях в автобиографической повести "Есть в степи родник".
...В ту последнюю встречу с Николаем Гармаевичем я передал ему номер журнала "Сибирь", где была напечатана маленькая поэмка Дамдинова "Уроки жизни" в моем переводе. Я взял ее подстрочник у автора за два-три месяца перед этим; вот тогда-то мы долго и горестно толковали о подлых временах, которые обрушились на страну. На глазах Дамдинова я прочитал подстрочник стихов; с первых же строк было понятно, что поэму написал человек честный, неподкупный. Герой Дамдинова, восьмидесятилетний Дэлэг рассказывал юнцам о своей долгой жизни и уроках ее. Потеряно много опор, предупреждал внуков старик. Вчера каждая строка наших законов была близка степняку, честный труд находил народное уважение, для добрососедства не имел значения цвет кожи людей. Постарайтесь отыскать и поставить на место эти опоры.
Поэма казалась чистой каплей, светящейся над грязным потоком лжи; дамдиновская капля не падала и не могла упасть с ладони времени.
А в осенний день 1999 года я обнял своего старшего товарища, не зная, что в декабре вернусь в его город - попрощаться с ним уже навсегда.
И тогда, в декабре, и сейчас, в эти минуты, звучал и звучит в моей душе широкий распев его необузданно вольных, горячих, затихающих в поднебесье и нежных строк, очаровавших меня еще в юности:
Песней я начал свой путь,
и песне его завершить.
Губы раскрою, и там,
где при мне небеса голубели,
Песня сольется с дыханием звезд
и на землю вернется жить,
Чтоб лунной ночью вдруг зазвенеть
у чьей-нибудь колыбели...






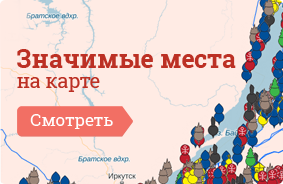



Комментарии